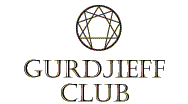А.Р. ОРАЖ БЕСЕДЫ С КЭТРИН МЭНСФИЛД В ФОНТЕНБЛО
The Century Magazine
Ноябрь 1924 года
Всем известно, что Кэтрин Мэнсфилд провела свои последние дни в Институте Гурджиева в Фонтенбло, а письма и дневники, которые г-н Мидлтон Мюрри опубликовал в настоящее время, несут в себе достаточное свидетельство важности, которую она придавала как Институту, так и системе подготовки работающих там. Уже задавалось множество вопросов об особой пользе, помимо здоровья, которую Кэтрин Мэнсфилд надеялась извлечь из всего этого. Потеряла ли она свой писательский импульс? Но ведь она все еще была полна идей набросков и планов для будущих рассказов и даже одного-двух романов. Была ли она недовольна своим мастерством и надеялась ли улучшить его с помощью особого метода обучения? Но она всегда была недовольна собой и пыталась совершенствоваться. Начиная с 21 года, когда она показала мне свой первый набросок, и я опубликовал его в New Age, и вплоть до ее смерти в 33 года – в тот момент, когда она собиралась писать еще после нескольких месяцев отдыха – она работала, как работают немногие писатели, чтобы развивать и совершенствовать свой стиль в мучительном убеждении, что до сих пор все было только в зачаточном состоянии.
Несколькими месяцами ранее, прежде чем она поехала в Институт в Фонтенбло, она мне сказала, что не могла прочесть ни один из рассказов, написанных ею, без чувства презрения к самой себе. «Нет ни одного, – говорила она, – который я бы осмелилась показать Богу». Поэтому не нужно было никакого Института, чтобы усилить ее желание преуспеть в своем мастерстве, и, по сути, ни Институт не был школой литературного искусства, ни она не питала иллюзий, что там ее научат писать. Истинная и единственная причина, которая привела Кэтрин Мэнсфилд в Институт Гурджиева, – в меньшей степени неудовлетворенность своим мастерством, нежели недовольство собой, и меньшая степень неудовлетворенности своими рассказами, чем отношением к жизни, подразумеваемым в них, меньшая неудовлетворенность своей собственной и современной литературой, чем литературой вообще.
Мы много беседовали с ней на эту тему за многие годы нашего знакомства, и особенно в течение месяцев, предшествующих ее смерти. В этих разговорах она рассуждала более обстоятельно, чем в своих письмах и дневниках. «Предположим, – говорила она, – что я могла бы преуспеть в своем писательском творчестве подобно Шекспиру. Это было бы прекрасно, но что потом? Чего-то недостает в словесном искусстве, даже в самом наивысшем. Литературы недостаточно».
«Величайшая литература, – говорила она, – все еще лишь просто литература, если она не имеет цели, соизмеримой с этим искусством. Наличие или отсутствие цели отличает Литературу от обычной литературы, и возвышенность цели выделяет Литературу в литературе. Обычная литература не имеет другой цели, нежели доставлять удовольствие. Незначительная литература является дидактическим предметом. Но высочайшая литература – почти несуществующая – имеет не только эстетическую и дидактическую цели, но, кроме того, и творческую: чтобы подвергать своих читателей реальному и в то же время озаряющему опыту. Более значительная литература – это приобщение к истине».
«Но где же мы находимся в связи с этим? – спросил я. – Где находится писатель с его ключами посвящения?»
Это было знакомство Кэтрин Мэнсфилд с Институтом Гурджиева и целью ее поездки туда. Ибо она понимала, что не столь сами писательские труды как таковые нуждаются в критике, коррекции и совершенстве, сколько ум, характер и личность писателя. Нужно стать кем-то большим, чтобы писать лучше. Конечно, это не исключает возможности значительного усовершенствования техники написания без помощи какой-либо системы личного обучения. С другой стороны, когда, как в случае с Кэтрин Мэнсфилд, улучшение своей техники обычными средствами перестало быть возможным, или попало под закон убывающих результатов (производя слишком незначительный результат в сравнении с огромными усилиями), то принятие совершенно новых средств, таких, как особое самообучение, становится обязательным, если желание совершенства еще столь активно, как это было в ней.
Я видел Кэтрин Мэнсфилд почти каждый день в Институте, и вместе мы провели много долгих разговоров. В течение многих месяцев ей очень нравилось не писать и даже не читать. Нас обоих удивляло наше нынешнее отношение к литературе в сравнении с тем безумием, которое мы переживали в течение многих лет. «Что же с нами произошло? – спрашивала она капризно. – Мы умерли? Или наша любовь к литературе была притворством, теперь спавшим с нас как маска? С другой стороны, время от времени, испытываешь возвращение былой восторженности.» Каждый раз она начинала рассказ и признавалась мне, что слегка наслаждалась волнением, возникающим от того, что снова писала. На следующий день она разрывала написанное довольно радостно и с насмешливым выражением лица. Преждевременные роды! Я думаю, она была связана контрактом с тем или иным издателем, и должна была написать несколько рассказов, много раз она говорила об этом как об обязательстве. Однако бóльшим, чем ее желание сохранить обязательство перед издателями, было ее решение не писать рассказы в прежней манере. Ее новые рассказы должны быть другими. Насколько другими, только она имела реальное представление; и, более того, она хранила его для себя, не доверяя даже своим дневникам или самым откровенным письмам. Действительно, представление должно вызреть в уме, а не быть написанным – представление, которое медленно возникало в новом состоянии бытия и понимания; представление, следовательно, невыразимое словами, пока его внутренние метаморфозы не завершились. Я читаю ее дневники, тщетно пытаясь найти реальное очертание новой идеи, которая начала зарождаться в Кэтрин Мэнсфилд. Она пишет в них неоднократно о новых рассказах, но никогда о новом отношении, которое подразумевалось и проявлялось в них. Она хотела бы писать, как раньше, со всеми своими старыми качествами – оживляющими и одухотворяющими ее прозу, она бы продолжила использовать свои изумительные наблюдения за мужчинами и женщинами как под микроскопом. Но ее отношение претерпело изменение. Одним словом, у нее была новая цель в манере письма – не только удовлетворять и наставлять, но и создавать и творить.
Однажды, незадолго до ее смерти, она послала за мной, чтобы я зашел к ней в комнату, – она хотела рассказать мне что-то важное. Когда я приехал, она была в приподнятом настроении. Лицо ее сияло, как если бы она побывала на Синае.
«Что случилось, Кэтрин, – спросил я. – Что делает Вас такой счастливой?»
«Я нашла свою идею, – сказала она. – Я получила ее, наконец. Она возникла, конечно же, из личного опыта. Катя почувствовала то, что никогда не чувствовала раньше в своей жизни, и Катя понимает то, что никогда не понимала прежде».
Я не могу вспомнить точные слова, с помощью которых она продолжала излагать свою новую идею, или, вернее, новое отношение к жизни и литературе. Более того, это было сделано в общих чертах с помощью пауз, во время которых я также интенсивно размышлял, как и она, над этой темой, и после которых она вносила новую мысль или более четкое формулирование предыдущего убеждения. Я могу только записывать фрагменты и окончательное впечатление, возникшее у нее в уме. Кратко говоря, вывод был следующий: сделать обычные добродетели как привлекательными, так и заурядными, как пороки; представлять добро как остроумное, отважное, романтичное, веселое, привлекательное, и зло – как банальное, угрюмое, общепринятое, напыщенное и непривлекательное.
«Я не могла подумать, – сказала она, – что я не должна была делать подобных наблюдений, которые я делала о людях, какими бы бессердечными они ни казались. В конце концов, я действительно наблюдала эти вещи, и я должна была записать их. Я была словно фотокамерой. Но в этом-то и дело. Я была избирательной камерой, и это было моей позицией, которая определялась выбором с результатом того, что мои срезы жизни (спасибо г-ну Филлпоттсу!) были неполными, обманчивыми, и немного надуманными. Кроме того, у них не было иной цели, кроме как зафиксировать мою позицию, которую саму по себе было необходимо изменить, если даже она должна была стать активной взамен пассивной. В общей сложности, я была не только просто камерой, но я была избирательной камерой и избирательной камерой без творческой составляющей. И, как и все бессознательное, результатом было зло».
«Хорошо, каков ваш новый план?»
«Сначала расширить границы моей камеры, а затем использовать ее для сознательной цели – представлять жизнь не просто, какой она кажется благодаря определенной позиции, но, какой она предстает перед иной и отличной от нее позиции, творческой позиции».
«Что вы подразумеваете под творческой позицией?» – спросил я.
«Вы должны помочь мне, Ораж, – ответила она, – если мне не хватит слов. Но я имею в виду что-то вроде этого. Жизнь может быть создана, чтобы проявить что-то посредством показа лишь одного ее аспекта, и каждая позиция в нас, любое настроение, я хочу сказать, видит только один аспект. Предполагая, что это отношение более или менее перманентно в том или ином писателе и невосприимчиво к изменению бытия по собственной воле, то ему ничего не остается, кроме как показывать соответствующий аспект жизни, и в то же время, не более, чем только показывать его. Он пассивно является жертвой частичного видения, навязанного ему, а оно, в свою очередь, не обладает динамичным характером. Такие размышления о жизни имеют эффект отражений в зеркале реальных объектов, то есть, вообще ничего».
«Ваша идея состоит в том, чтобы влиять на жизнь и больше не отражать ее?»
«О, это слишком значительно, – сказала она. – Вы не должны смеяться надо мной. Помогите мне выразить себя».
Она продолжала, случайно подбирая слова, и, наконец, завершила набросок своей новой позиции.
«В жизни есть множество как точек зрения, так и отношений к ним, и точки зрения меняются с отношением. В настоящее время мы видим жизнь, вообще говоря, только с пассивной точки зрения, потому что привносим только пассивное отношение, что отрицательно сказывается на ней. Можем ли мы изменить свое отношение? Мы должны не только видеть жизнь по-другому, но и сама жизнь должна идти по-другому. Жизнь будет претерпевать изменения во внешних признаках, потому что мы сами претерпели изменение во взглядах. Я осознаю, например, последнее изменение отношения в себе, и сразу не только мои старые рассказы видятся для меня несколько иначе, но и сама жизнь выглядит иначе. Я не могла снова писать старых или подобных им рассказов: и не потому, что я не вижу тех же деталей, как раньше, а потому что тем или иным образом паттерн уже иной. Теперь старые детали создают иные паттерны, и это восприятие нового паттерна и есть то, что я называю творческим отношением к жизни».
«Вы хотите сказать, – сказал я, – что, пока детали жизни – формы, цвета, звуки и т. д. остаются теми же, паттерн, согласно которому вы располагаете их в настоящее время, становится иным, благодаря смене вашего отношения? Раньше находясь в настроении, например, негодования, вы выбирали и представляли свои наблюдения о жизни как картину, например, креста радостного страдания? Ваше нынешнее отношение, будучи творческим подходом и, как негодование, не просто реактивно, организует те же детали, но по-другому паттерну, в паттерне, представляющем, скажем, снятие с креста?»
«Я хочу, я осмеливаюсь подразумевать вдвое меньше, чем это, – ответила Кэтрин Мэнсфилд, – но на самом деле моя идея гораздо более мала. Может быть, и нет, однако, мне надо обдумать это. Как Вы думаете, это очень самонадеянно с моей стороны?»
Я успокоил ее, и она продолжила:
«Художник передает не свое видение мира, но отношение в результате его видения, не свой сон, но свое состояние сна, и так как его позиция пассивна, негативна или равнодушна, то таким образом он усиливает у своих читателей соответствующее умонастроение. В настоящее время большинство писателей просто пассивны; в действительности, они стремятся только к отображению жизни, как они говорят, с тем последствием, что их читатели по большей части становятся все более пассивными, и даже зрителями, и мы живем в мире Подглядывающего Тома со все реже и реже скачущей Леди Годивой. Я пытаюсь сказать, что новым отношением к жизни со стороны некоторых писателей будет сначала желание увидеть ее иначе, а затем сделать ее иной».
«Пришли ли Вы к какому-то практическому выводу, что касается написания рассказов? – спросил я. – Вы видите возможность нового типа рассказов? Как будет работать ваша новая идея на практике?»
Кэтрин Мэнсфилд показала мне некоторые отрывки из начала рассказов, все те, которые она разорвала.
«Я начинала много раз, – сказала она, – но я еще, кажется, не готова. Тем не менее, идея достаточно ясна, и я осуществлю ее однажды. Вот пример. Я не скажу, что это один из тех рассказов, который я когда-нибудь напишу, но он послужит в качестве иллюстрации. Два человека влюбились и поженились. У одного из них, или, возможно, у обоих, ранее происходили какие-то события, последствия которых все еще сохраняются, как призраки, в новом доме. Оба хотели бы забыть, но призраки блуждают по-прежнему. Каким образом можно представить эту ситуацию? Обычно писатель, такой, как недовольная собой в последние годы Кэтрин Мэнсфилд, будет использовать свое пассивное, избирательное и обиженное отношение, и в результате появится один из ее знаменитых сатирических набросков, усиливая у читателей это ее отношение. Или, может быть, некоторых дидактиков затронет эта ситуация, и они представят нам проповедь о важности жертвы. Другие отнесутся к ней жалостливо или мрачно, или с психологической точки зрения, или мелодраматично, или с юмором, каждый – согласно своему пассивному отношению или обычному настроению».
«Но я должна представить ситуацию так, как мое истинное отношение видит ее ? как обычное приключение с изгнанием призрака. Благодаря некоторым изменениям во мне, пока я была здесь, я вижу любую такую ситуацию как возможность для упражнения и использования всего интеллекта, изобретательности, воображения, бесстрашия, выносливости и, по сути, всех добродетелей самых привлекательных героев и героинь. Подумайте о тонкости, необходимой обеим сторонам, чтобы поддерживать взаимное состояние любви, которое естественно и искренне оба желают сохранить, как, конечно, и любой другой человек. Подумайте, каким образом они будут пытаться разрушить призраков друг в друге и в самих себе. Предположите, как будут они вместе состязаться за божественный лавр, жизнь и любовь как искусство. Я могу увидеть такие возможности для тонкости наблюдения, что Генри Джеймс может показаться недальновидным. В то же время, несомненно, ни одно качество не должно оставаться неиспользованным, но любые способности художника должны быть привнесены в пьесу».
«И у Вас же не обязательно будет счастливый конец?» – спросил я.
«Не любой ценой. Задача может оказаться слишком большой. Герои и героини не измеряются ни тем, что они пассивно переносят, ни тем, чего они на самом деле достигают, но количеством и качеством усилий, которые они прилагают. Сочувствие читателя будет сохраняться за счет непрерывности и разнообразия усилий одного или обоих персонажей, за счет неукротимого возобновления их борьбы со всё новой изобретательностью. Обычно наши «герои» теряют свои силы, они пребывают в дурном настроении после первой неудачи, или просто повторяют тактику, которая ранее не удалась. И от нас требуется восхищаться их выносливостью или сочувствовать их страданиям или смеяться над их несостоятельностью. Я хочу смеяться, чтобы быть с героями. Позволим им ожидать пассивного зрителя и действовать, как если бы проблема заключалась только в ее решении. Это, грубо говоря, моя новая идея».
«И вы действительно видите свой путь в том, чтобы писать рассказы об этом?»
«Я вижу этот путь, но я сама все еще должна по нему пройти».
Всего лишь несколько недель спустя Кэтрин Мэнсфилд умерла. Я видел ее за несколько часов до ее смерти, и она все еще светилась своим новым пониманием.
перевод Т. Ровнер