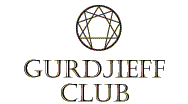РЕНЕ ДОМАЛЬ СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА
Я намерен написать поэму о войне. Возможно, это будет не настоящая поэма, но она будет о настоящей войне.
Это не будет истинной поэмой, поскольку если бы настоящий поэт был здесь и если бы распространились вести о том, что он собирается говорить — опустилась бы великая тишина, на первый взгляд — тяжелая, с тысячу ударов молнии — тишина.
Поэта узнали бы, мы бы видели его; мы смотрели бы на него, он смотрел бы на нас, и мы бы смешались со своими жалкими тенями, мы бы возмутились тому, что он настолько велик, — мы, болезненные, встревоженные, обеспокоенные.
Он стоял бы здесь, разрываясь тысячей ударов молний множества своих врагов, которых он содержит в себе — ведь он содержит их, и удовлетворяет их, если захочет — светящийся болью и святым гневом, однако такой тихий, как человек, зажигающий фитиль; в великой тишине он приоткроет маленький канал, маленький канал в мельнице слов, и позволит поэме течь, поэме, которая заставит вас позеленеть.
То, что я собираюсь сделать не будет настоящей, поэтической поэмой поэта, поскольку если слово «война» было бы использовано в настоящей поэме — тогда война, та война, о которой говорит настоящий поэт, война без жалости, война без перемирий вырвалась бы на благо наших сердец.
Поскольку в настоящей поэме слова стоят своих значений.
Но это не будет и философским дискурсом. Поскольку для того, чтобы быть философом, чтобы любить истину больше, чем себя самого, человек должен умереть для самообмана, убить вероломное самодовольство мечтаний и уютных фантазий. И это есть цель и конец войны, а война еще лишь только началась, еще многих предателей нужно разоблачить.
Не будет это и обучающим пособием, поскольку для того, чтобы учиться, чтобы видеть и любить вещи такими, какие они есть, — для этого нужно быть самим собой, видеть и любить себя таким, какой есть. Для этого нужно разбить предательские зеркала. нужно безжалостным взглядом уничтожить вкрадывающиеся в сознание фантомы.
Это и есть окончание и цель войны, которая еще едва начата, есть еще маски, которые нужно содрать.
Не будет это и страстной песнью. Поскольку энтузиазм стабилен, когда бог встает, и когда враги -не более чем бесформенные силы, а военный горн заглушает все остальное; но война еще едва начата, мы еще не бросили свои основания в огонь.
Не будет это и магическим заклинанием, поскольку маг молится своему богу: «Делай то, что я хочу», и он готов отказаться от войны со своим лютым врагом, если тот подкупит его, — не будет это и молитвой верующего, поскольку изо всех сил верующий молится: «Делай то, что ты хочешь», — и для этого он должен вложить сталь и огонь в самые недра своего дражайшего врага; — и это акт войны, но война еще едва начата.
Это будет что-то от всего этого, некоторая надежда и усилие в сторону всего этого, и это также будет некое подобие призыва к оружию. Призыв, который игра эхо возвратит мне, и который, возможно, будет услышан другими.
Теперь вы можете догадаться, о какой войне я намерен говорить.
Об остальных войнах — тех, которые мы проходим -говорить не буду. Если бы я захотел написать о них, это стало бы обычной литературой, чем-то временным, подделкой, оправданием. Это как если я произнесу слово «ужасно», хотя у меня никогда не было «гусиной кожи». Как если бы я использовал выражение «умирать от голода», хотя я еще не дошел до кражи из продуктовой лавки. Как если бы я говорил о безумии, еще не попробовав взглянуть в бесконечность сквозь замочную скважину. Как если бы я говорил о смерти, прежде чем мой язык узнал соленый вкус непоправимого. Так говорят о чистоте те, кто всегда считал себя выше своих местных свиней. Как говорят о свободе обожающие свои цепи и полирующие их, как говорят о любви те, кто не любит ничего, кроме собственных теней, или о жертве — те, кто не готов ни за что в этом мире пожертвовать своим мизинцем. Так говорят о знании те, кто маскирует себя пред своими же глазами. Такова наша великая слабость — говорить для того, чтобы ничего не видеть.
Это было бы ничтожным подобием, подобно тому, как старый и больной человек говорил бы с рвением, присущим лишь молодым и сильным.
Имею ли я тогда право говорить об этой другой войне — той, что не просто проходит — когда она сама еще не пылает во мне в полную силу? Когда я все еще веду лишь отдельные незначительные схватки? Вне сомнения, я редко имею такое право. Но «редко иметь право» также означает «иногда иметь обязанность», и, кроме всего прочего, «иметь потребность», поскольку у меня никогда не будет слишком много союзников.
Так что я попытаюсь сказать об этой священной войне.
Пусть она разразится и продолжится без перемирий! То и дело она наступает, но редко на длительное время. Малейший намек на победу, и я тешу себя надеждой, что выиграл, и играю роль благородного победителя, и — договариваюсь со своим врагом. В моем доме есть предатели, но они выглядят, как друзья, и было бы так неприятно разоблачать их! У них есть свое место рядом с дымоходом, свои кресла и свои домашние тапочки, они приходят, когда я засыпаю, делая мне комплимент, или рассказывая смешную или вдохновляющую историю, или приносят цветы и приятные вещи — иногда шляпу с перьями. Они говорят от первого лица, и я думаю, что слышу свой собственный голос, мой голос, говорящий: «Я есть…, Я знаю…, Я желаю…» Но все это ложь! Ложь, привитая к моей плоти; нарывы, что кричат мне: «Не убивай нас, мы с тобой одной крови!»; гнойники, завывающие: «Мы — твое великое сокровище, лучшие черты, продолжай кормить нас, ведь это не так уж многого стоит!».
И их так много, и они очаровательны и трогательны, они надменны, они шантажируют, они объединяются вместе… но они все — варвары, не уважающие ничего, — ничего, что истинно; они преклоняются перед всем, вьются ужом в знак уважения. Именно благодаря их идеям я ношу свою маску, они овладевают абсолютно всем, включая и ключи от шкафа с одеждой. Они говорят: «Мы оденем тебя, а то как же ты предстанешь пред великим миром без нашей помощи?». Но о! Было бы лучше быть голым, как червь!
Единственным моим оружием против этих врагов является крошечный меч, он настолько мал, что его едва можно различить невооруженным взглядом; однако он поистине является острым, как бритва, и довольно смертоносным. Но он настолько мал, что я теряю его каждую минуту. Я никогда не знаю, где я оставил его в прошлый раз, а когда нахожу — он кажется слишком тяжелым, чтобы нести его с собой и слишком неудобным в обращении — мой смертоносный маленький меч.
Я сам только знаю, как сказать всего несколько слов, но даже они похожи на скрип, в то время как они даже знают, как писать. Всегда один из них на моих губах, лежащий там в ожидании, когда мне хочется о чем-то сказать. Он слушает, оставляя все для себя самого, и говорит за меня, используя мои слова, но со своим, лживым акцентом. И именно благодаря ему мне уделяют внимание и считают разумным (Но те, кто знает, не оказываются одурачены, — если бы я только мог их слышать!)
Эти фантомы крадут у меня все. И поступая так, им легко заставить меня их оправдывать: «Мы тебя защищаем, выражаем тебя, все делаем за тебя, а ты хочешь убить нас! Ты ведь только себя разрушаешь, пытаясь бороться с нами и жестоко ударяя в наши чувствительные носы, — нас, твоих друзей».
И неясная жалость со своим учащенным дыханием приходит, чтобы сделать меня слабее. Пусть свет будет против вас, фантомы! Когда я зажигаю лампу, вы прекращаете говорить. Когда я открываю глаз, вы исчезаете — потому, что вы сотканы из вакуума, разукрашенной гримасами пустоты. Против вас -война до конца — лишенная терпимости и безжалостная. Существует только одно право: право быть больше.
Но вот начинается новая песня. У них возникает ощущение, что их раскрыли, и они притворяются, что ищут примирения: «Конечно, ты — господин. Но что за господин без слуг? Держи нас на наших низких местах, мы обещаем помочь тебе. Посмотри, например, захочется тебе написать поэму. Как же ты сделаешь это без нас?»
Да, вы, бунтари, однажды я укажу вам ваше место. Вы будете работать в моей упряжке. Каждое утро я буду кормить вас сеном и чистить. Но пока вы пьете мою кровь и крадете у меня слова, будет лучше, если я перестану писать стихи!
Мне предложили замечательное перемирие: закрыть свои глаза, чтобы не видеть преступление, бегать по кругу с утра до ночи, только чтобы не видеть постоянно открытый рот смерти, считать себя победителем еще до начала схватки. Подлое перемирие! Устроиться поудобнее со своим малодушием, ведь так делают все. Мир проигравшего! Немного сквернословия, немного пьянства, немного богохульства ради шутки, немного маскарада, устроенного из добродетели, немного лени и фантазий — или много, если к этому есть склонность — всего этого понемногу, окруженного кондитерски сладкими речами; вот какой мир предлагается. Мир предателя! И для того, чтобы защитить этот позорный мир, мы готовы на все, готовы объявить войну друзьям, поскольку есть одно старое, проверенное и истинное правило: для того, чтобы оставаться в мире с собой нужно обязательно обвинить кого-то другого. Мир предателя!
Вы уже поняли, что я хочу рассказать о священной войне.
Тот, кто объявил эту войну в себе, находится в мире со своими друзьями; и несмотря на то, что все его существо является полем самой жестокой битвы, в самой глубине его правит покой, который является более активным, чем любая война. И чем сильнее этом мир правит в его самой глубокой основе, в этом центре тишины и уединения, тем более жестоко разворачивается битва против беспорядка лжи и бесчисленных иллюзий.
В этой огромной тишине, скрытой за воплями с поля битвы, укрытой от внешнего ускользающим миражом времени, вечный победитель слушает голоса других безмолвии. Одинокий и преодолевший иллюзию, что он не один, он больше не является единственным одиноким. Но я отделен от него теми призрачными армиями, которые я должен уничтожить. О, быть способным однажды сесть на свое место в этой крепости! На ее бастионах позвольте мне быть разорванным на куски, лишь бы не позволить суете войти в королевские покои!
«Но должен ли я убивать?» — спросил воин Арджуна. «Должен ли я платить дань Цезарю?» -спросил другой. Убей, ответил он, если ты убийца. У тебя нет выбора. Но если твои руки запятнаны кровью твоих врагов, смотри, чтобы ни одна капля не упала в королевских покоях, пока недвижимый победитель ожидает. Он говорит, плати, но смотри, чтобы Цезарь не бросил даже взгляда на твое королевское богатство.
А я, у которого нет другого оружия, нет другой монеты, говоря словами Цезаря, кроме слоз -должен ли я говорить?
Я буду говорить, чтобы призвать себя в святой войне. Я буду говорить, чтобы предать суду предателей, которых я взрастил. Я буду говорить, чтобы мои слова устыдили мои дела до тех пор, пока мир, облаченный в громовые доспехи, не установится в палатах вечного победителя.
И поскольку я использовал слово «война», которое в наше время не просто звук, который производят своими устами образованные люди, но которое стало сейчас серьезным словом с весомым значением, будет видно, что я говорю серьезно и не пустые звуки издаю я своим ртом.
Весна 1940